Плацентарный барьер
прибор Допплера
(допплерометрия – это оценка состояния кровотока в сосудах, обеспечивающих питание плода во время беременности)
Её маленькое сердце бьётся так, будто маршируют пять стойких солдатиков. Раз-два, раз-два. Нале-во! Напра-во! Раз-два! Стройные ножки в такт опускаются на залитую солнцем брусчатку. Губы чуть поджаты. В карманах — крошки от утренник пряников.
Следом бряцают мои тугие гулкие першероны. Туг-дык. Туг-дук. И-туг-ду-у-у-ук. Солдатики аккуратно пропускают першеронов (один приподнимает седоватый хвост и попёрдывая роняет парную лепёшку с просом).
Солдаты смыкают ряды. Мы лежим на зелёной клеёнке. За окном тает снег.
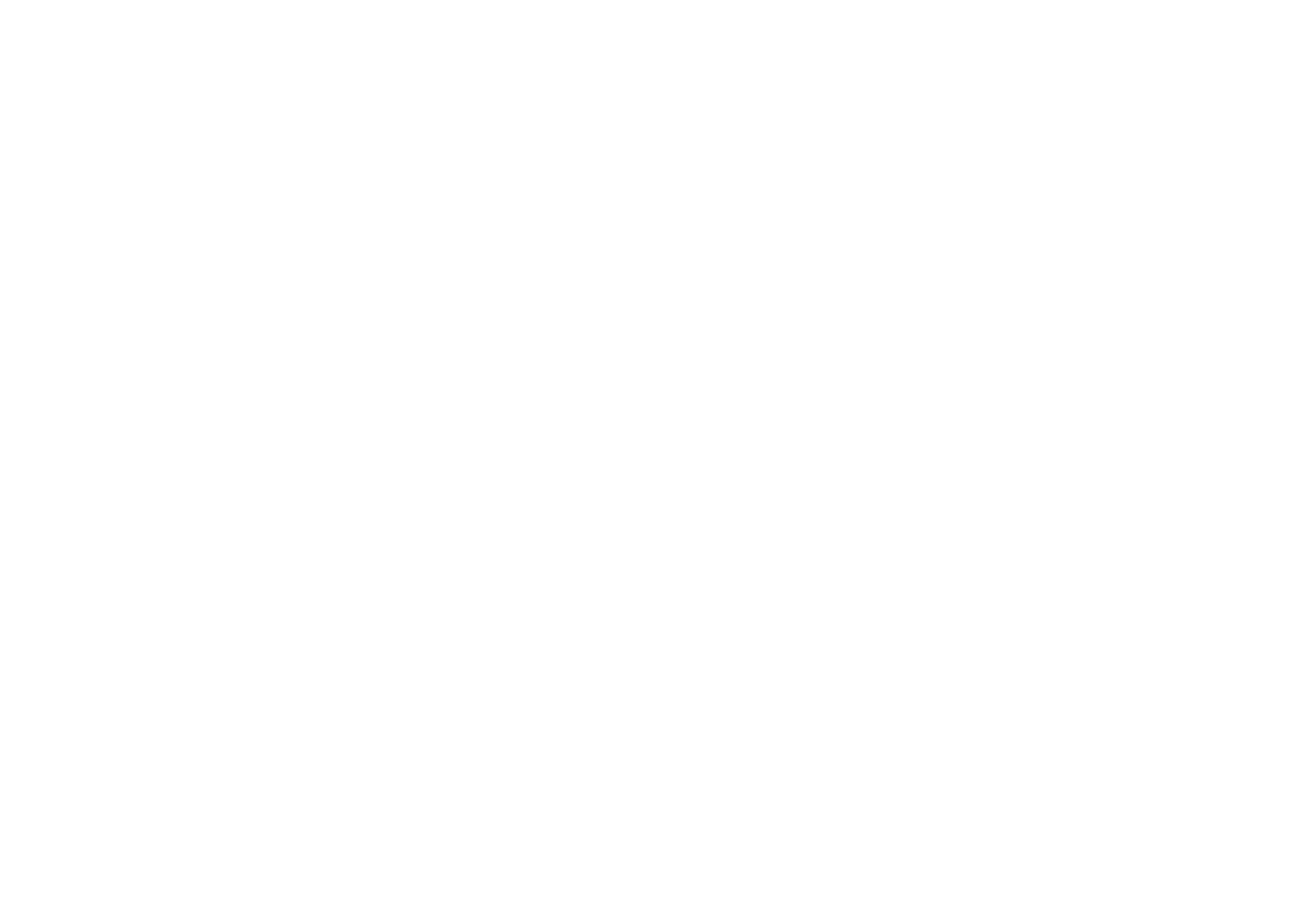
континуум
У кабинета сидели сонные беременные девушки в комбинезонах, с выпадающими из безвольных отёчных пальцев покетбуками. Мшистые тёплые норы, вибрирующие в ровном гудении трансформаторной будки.
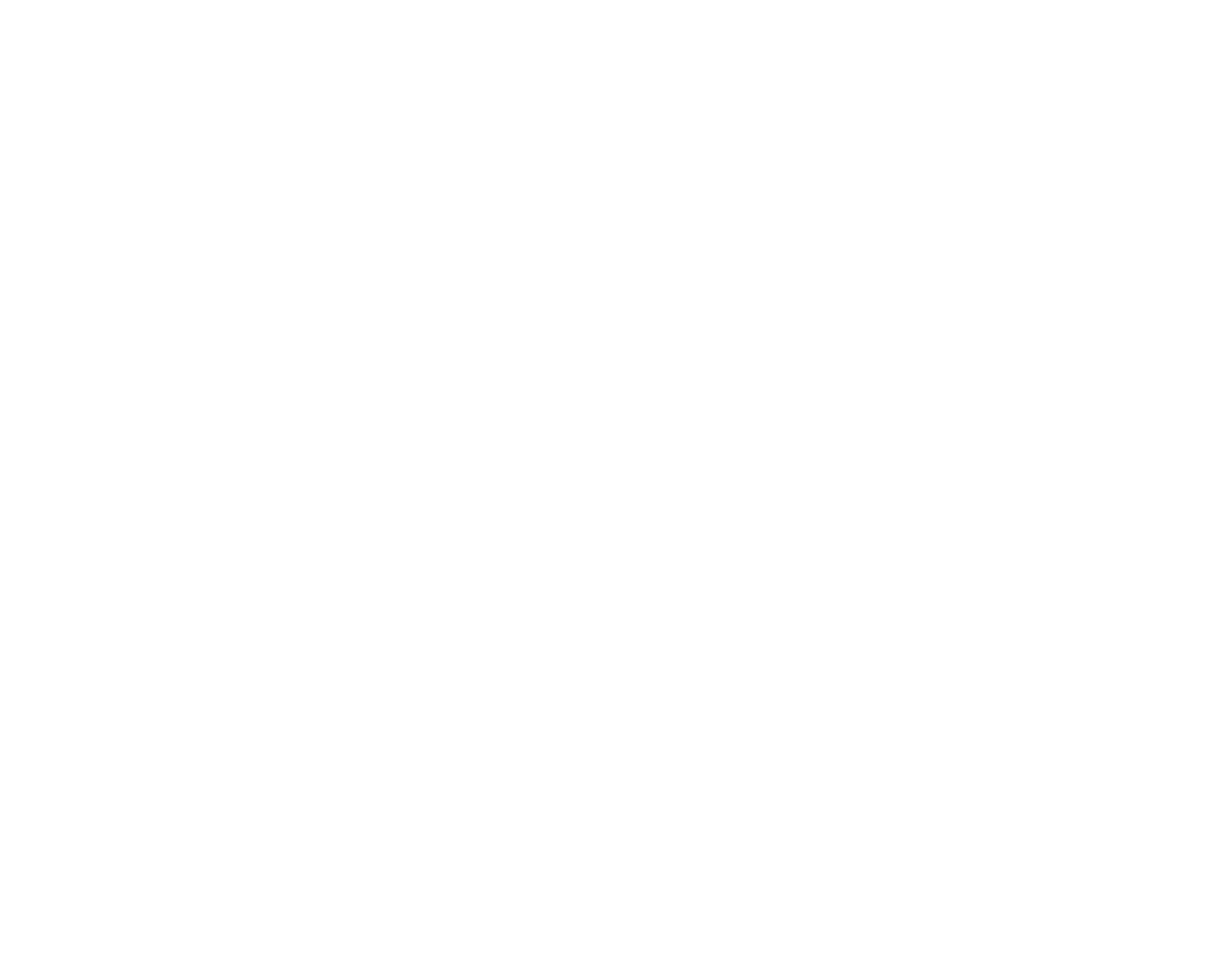
в утробе ширилась и пульсировала новая жизнь
поел
Федя видится мне азиатом. Глаза чуть раскосые, чёрные сканеры.
Дети в грудном возрасте, до ползания, бывают буддоподобные, с большими мочками, круглым, как казан, животом. Складки-перевязки перекатываются барханами. Похожи на шарпеев.
По консистенции Федя не зефир (как девочки, в невесомых взбитых сливках которых прощупываются сахарные косточки), а мясо, тугое и упрямое. В нём много животного, парного. В животе клокочет магма жизни. Изнутри хлюпает, подхрюкивает, урчит. Томится на медленном огне чолент.
Федя барашек. Но иногда ведёт себя как полено. Отесанек. Немедленно жрать. Панические атаки. Всё бросай, сапоги через плечо, дублёнка трещит по швам, свидетели (пассажиры маршрутки) машут платочками (мысленно перекрестясь).
После насыщения в нём появляется маслянистость. Не просто сытость — а именно полнота жизни, великодушие, матовый блеск натёртых бочков. Тогда Федя расположен поведать о грядущем апокалипсисе, но слова ещё не сколотили в нём свои маленькие клети. Придут слова — уйдёт память об этом. Федя пока говорит горлом и животом.
Сквозь рисовую бумагу кожи просвечивает ровное мерцание кровотока. Постукивают чётки позвонков. Равномерно завязывается жирок. Федя рассказывает о войнах, цунами и землетрясениях. Мы, не понимая и не веря, улыбаемся ему.
Сестрица Со, вошедшая в возраст резвой кобылки, взрезает победным визгом вязкий воздух Фединой притчи. Федя вздрагивает и ищет мои пальцы, находит, дыхание его успокаивается, он запечатывает ротик, вслушивается в wild world sounds, прислонясь спиной к моей груди, пятки калачиком греются в маминых ладонях, волосы топорщатся, фасолины глаз расширились.
Федя переваривает.
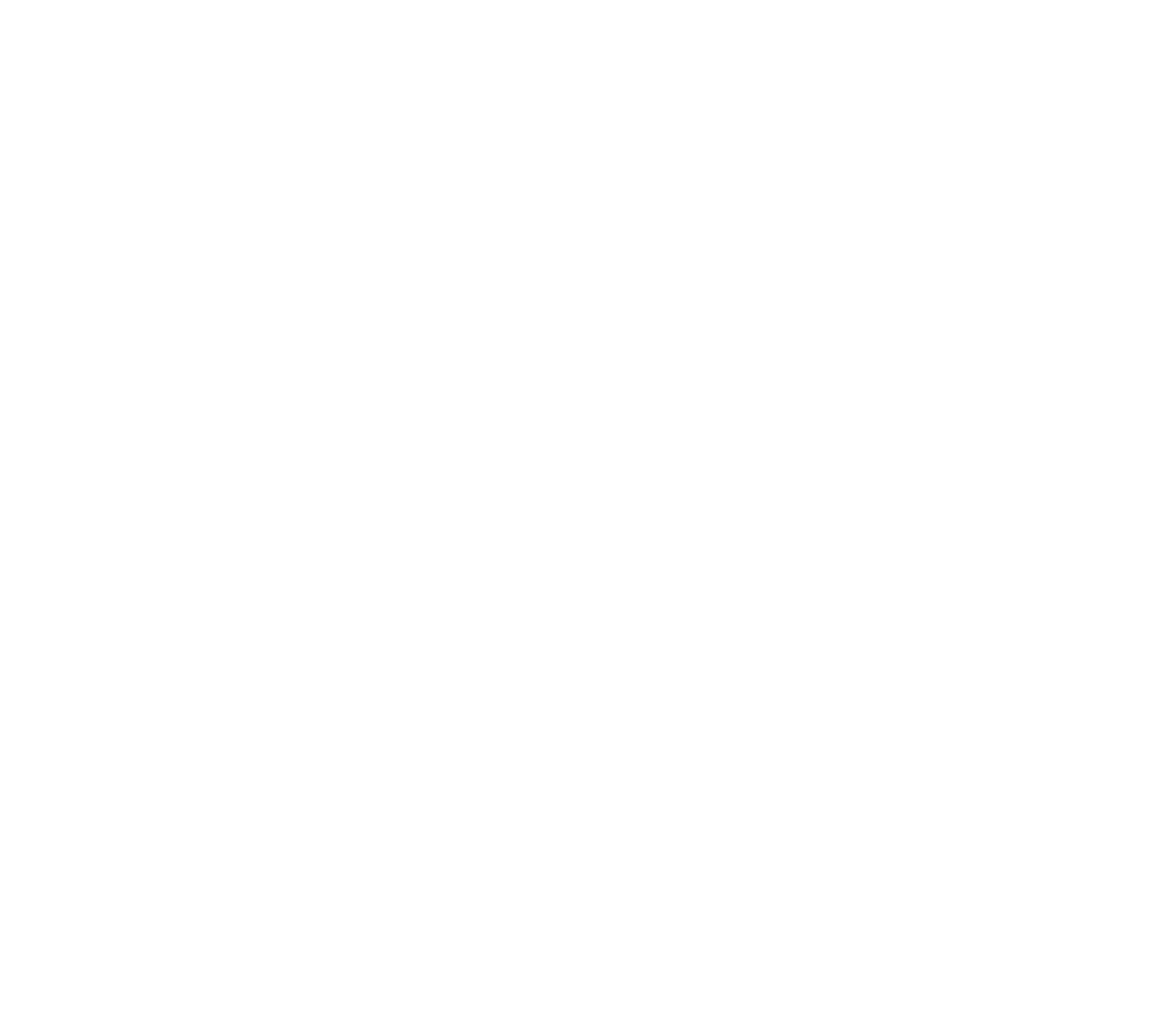
тёплым барашком сидел на руках, вздрагивая от резких звуков
на снегу
.
C южного склона в парк въехали деревянные саночки на завитых полозьях. В них мальчик смеялся в голос, посверкивая сахарными зубами, катал морозное яблоко в непослушных варежках. Санки, подгоняемые позёмкой, свихнули на протоптанную тропинку к школе и стали у воробьиного куста.
Он, завалившись набок, постучал по карманам и веером сыпанул что-то дрязгое. Коричневые катыши сорвались с веток, словно нарисованных углём, и окружили предсанье.
Тусклая корявая рука, деревянно торчащая из кроличьего манжета, дёрнула ослабшую было верёвку, санки царапнули асфальт и поскользили по лёгкому снегу в сторону озера, белеющего фаянсом в ранних сумерках.
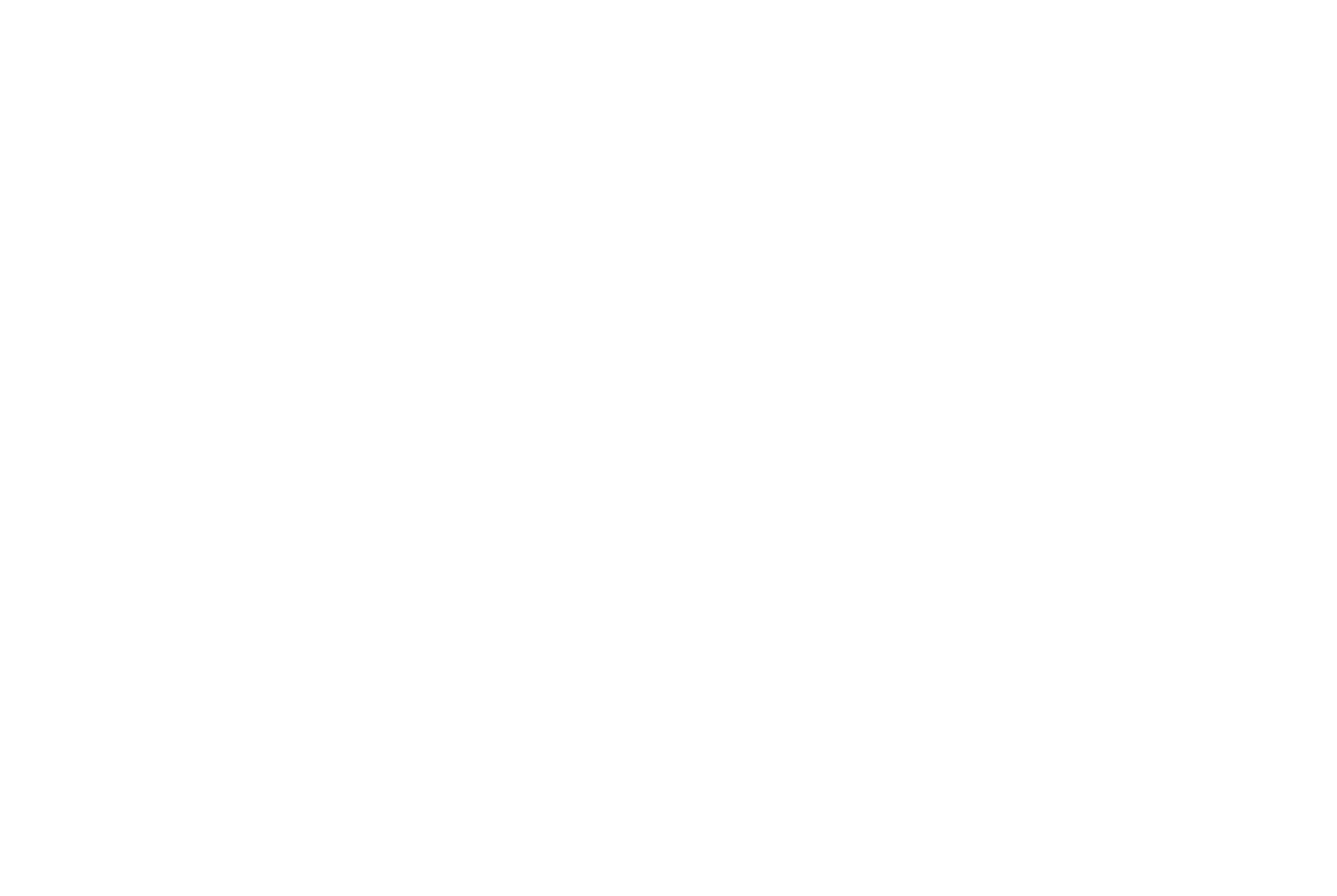
зима рано пришла в наш безрадостный край прелых листьев и влажных окурков
моцион
Вплыли в незатейливый этот вечер под низким небом. Пять человек с печатью вчерашнего в горьком оклике пригорюнились над стеклотарой. Пегие низкорослые собаки с ноздреватым клеймёным мясом поводили кожаными носами и, словив дальнее, унеслись в высокую траву.
Мы не спеша брели по тропинке. Я наклонилась вытереть ей нос. Она вставила короткий тычок в моё сонное вяленое лицо, по-весеннему поёжилась. Отстранив носок сапожка, принялась выводить палочкой на влажном песке буквы: М-А-М-А.
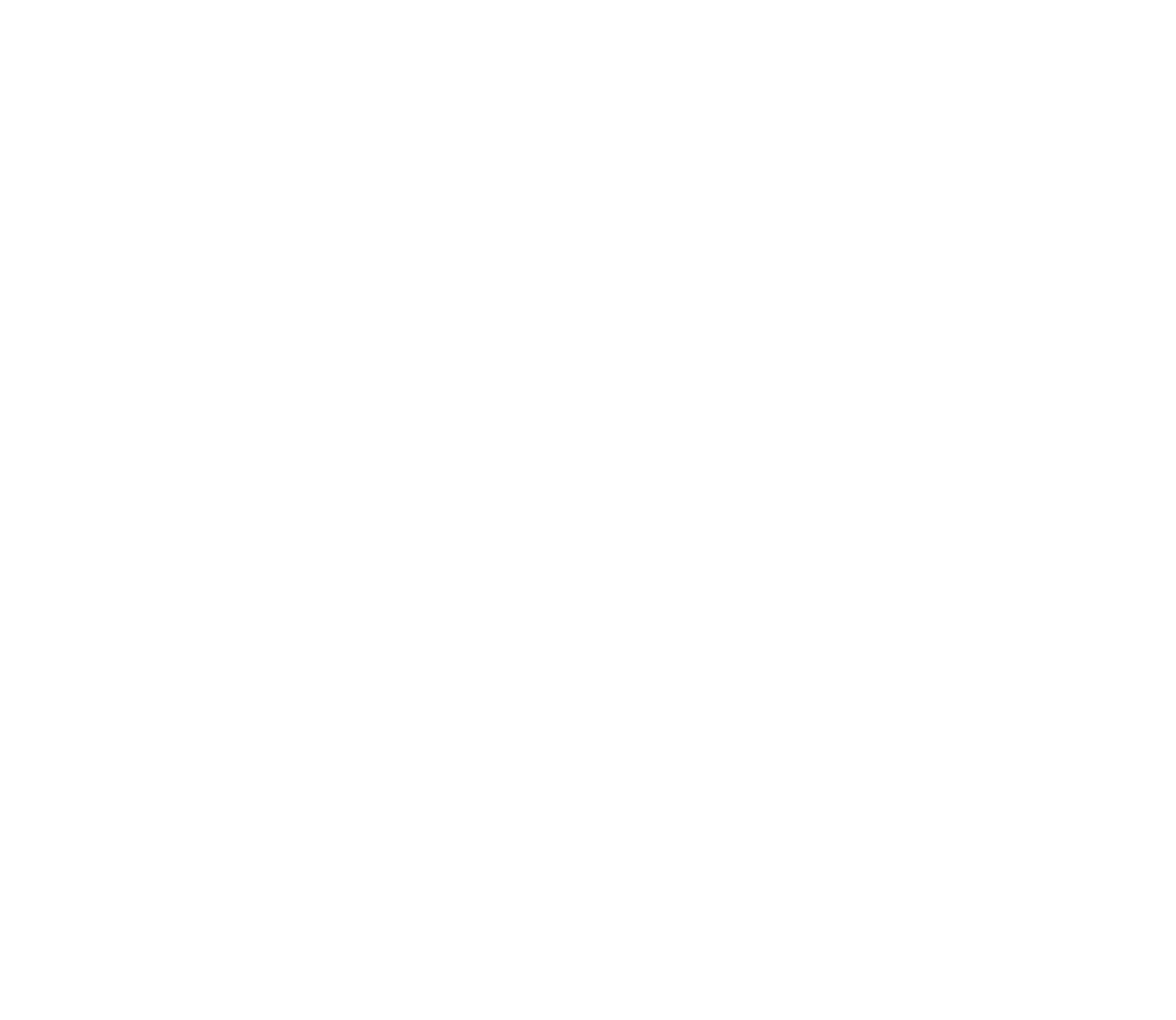
пегие низкорослые собаки унеслись в высокую траву
московские дети в субтропиках
Дети в приморской влаге моментально начинают страдать дыхательными недугами. То есть (за)трапезная Поваровка (по Ленинградке три часа, потом направо), с дождями, червяками и подмосковной ногтевой грязью, — их нутряным лепесткам в радость.
А здесь – что ни сопли, то стекают через два дня в колодец трахеи, ухают изнутри, отваливаются и канут слизневые щепотки, обложенные языки ворочаются в сырой темноте рта, поскрипывают под горячей кожей ветвистые корни бронхов.
«Москва все такой слабий и балной!» — сетует армянка, продавщица чурчхеллы, киндзы и ощипанных перепелов с младенческими шеями, свисающими с ящика перевёрнутыми запятыми.
А здесь – что ни сопли, то стекают через два дня в колодец трахеи, ухают изнутри, отваливаются и канут слизневые щепотки, обложенные языки ворочаются в сырой темноте рта, поскрипывают под горячей кожей ветвистые корни бронхов.
«Москва все такой слабий и балной!» — сетует армянка, продавщица чурчхеллы, киндзы и ощипанных перепелов с младенческими шеями, свисающими с ящика перевёрнутыми запятыми.
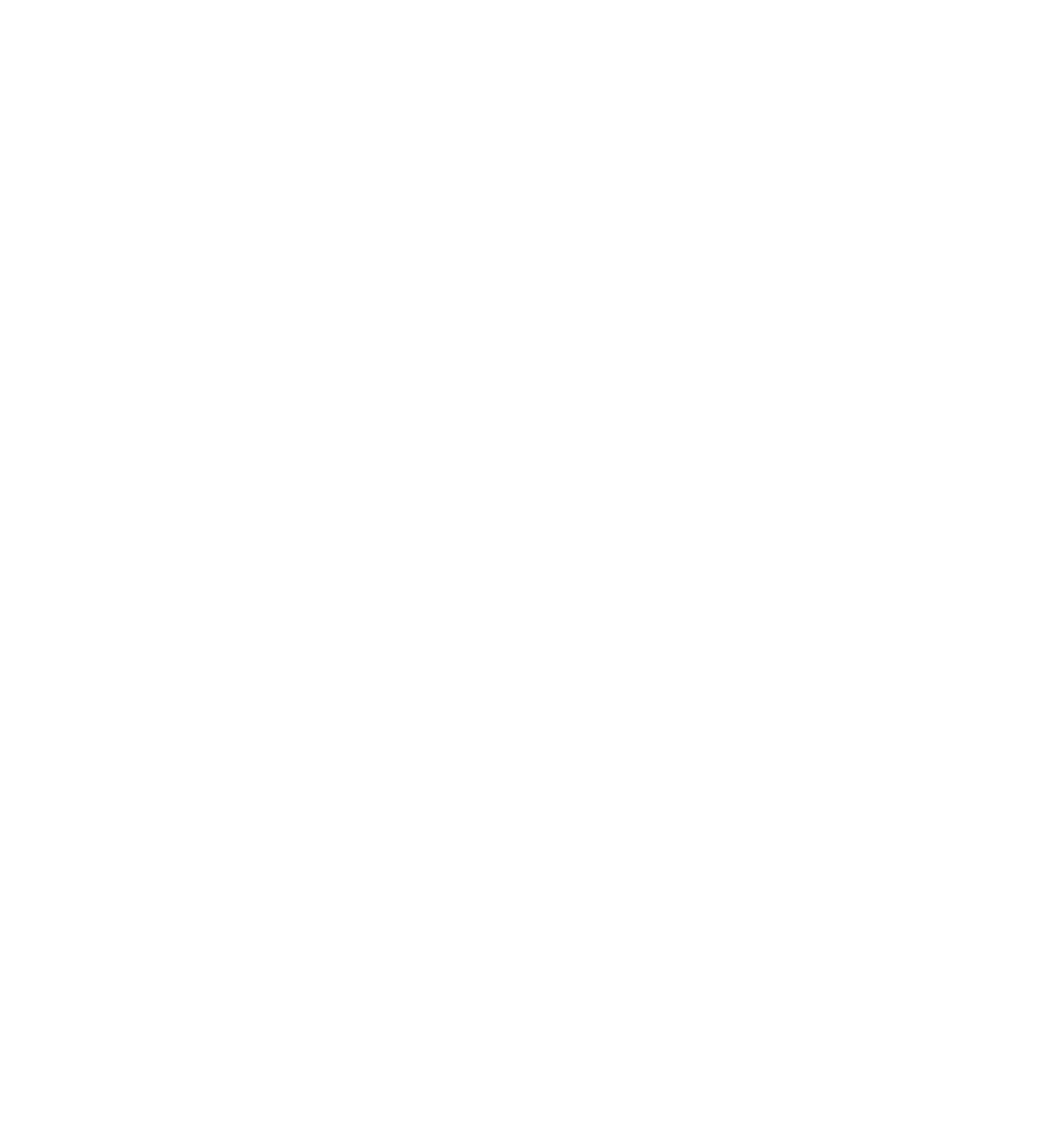
ливень в субтропиках
фактуры
На коляску села синичка.
Я протянула ей горсть семечек (которые по старой своей плебейской привычке лузгала, бессмысленно пялясь на крокусы), она принялась бойко клевать, присев на оттопыренный большой палец. Невесомая ситцевая девочка. Следом прилетел бязевый мальчик с расписанными перьями и подведёнными глазами.
Вороны же сшиты из мохера.
Я протянула ей горсть семечек (которые по старой своей плебейской привычке лузгала, бессмысленно пялясь на крокусы), она принялась бойко клевать, присев на оттопыренный большой палец. Невесомая ситцевая девочка. Следом прилетел бязевый мальчик с расписанными перьями и подведёнными глазами.
Вороны же сшиты из мохера.
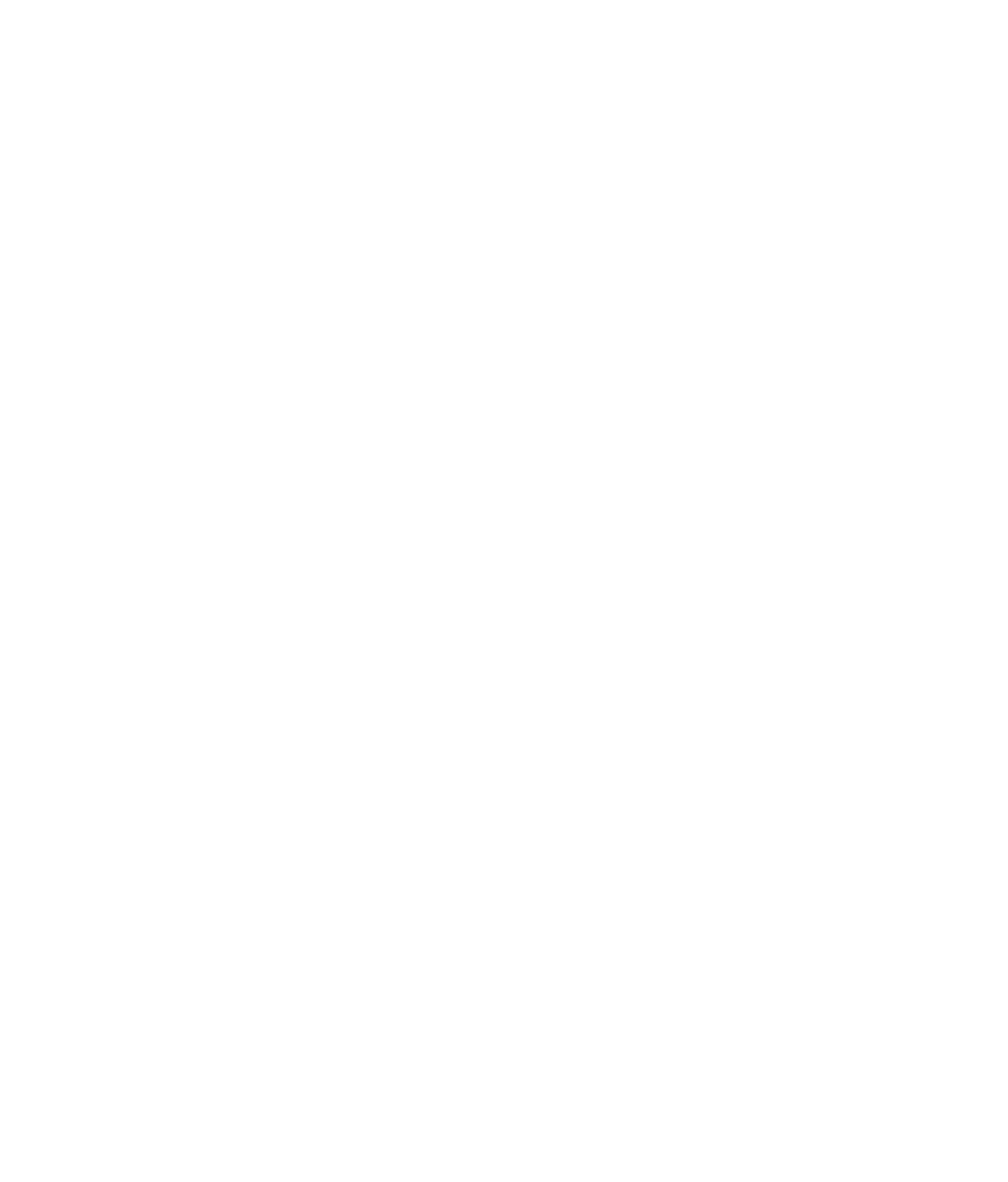
женитьба
Две девочки 10-12 лет держат на руках кошку с выпуклым брюхом и рассуждают о том, что кошка женится и брать её на руки нельзя.
Кошка индифферентна к вопросу своей женитьбы, поэтому они молча сидят до сумерек, пока ещё различимы короткие штрихи старых окурков у поджатых их ног. Душная теплота жареного лука сминается вонью крашеного подъезда.
Сухо хлопают дверцы машин.
Кошка индифферентна к вопросу своей женитьбы, поэтому они молча сидят до сумерек, пока ещё различимы короткие штрихи старых окурков у поджатых их ног. Душная теплота жареного лука сминается вонью крашеного подъезда.
Сухо хлопают дверцы машин.
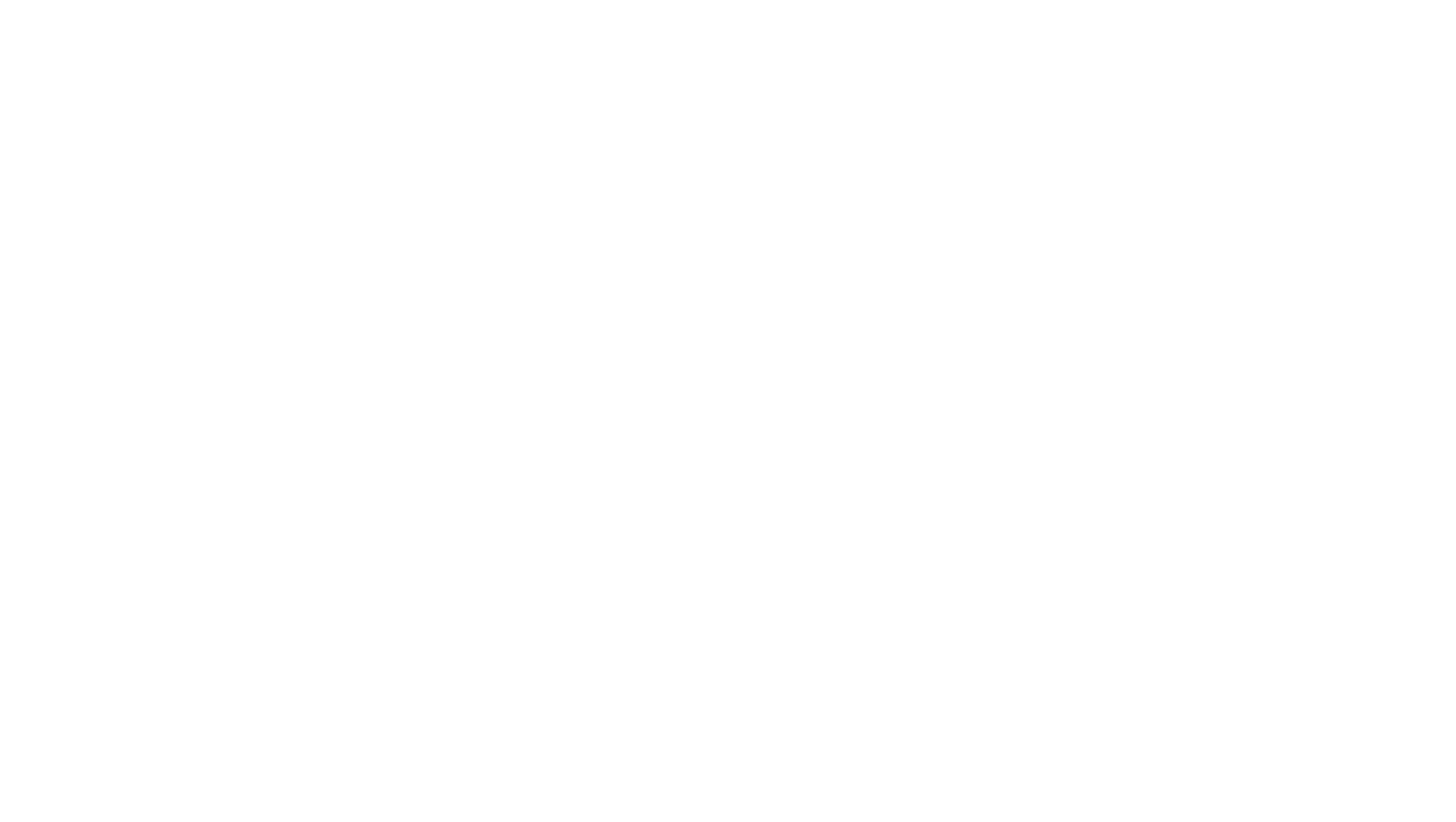
попутчик
Русый сероглазый одиннадцатилетний Алёша едет с мамой и бабушкой. Взахлёб ‒ про сталагмиты и сталактиты, пещерный карстовый перст указывает, и знаете, дельтаплан, в пещере ‒ настоящий дельтаплан. И потом валуны и сквозь них ‒ чистейшая, просто чистейшая, горная, очень-очень красиво, правда, закончилась плёнка, а ободранное колено ‒ это так, это... да...
ну, полез, вот и получил Алёша, смотрите ‒ почти ничего не осталось, только колено не сгибается.
«Алёша, хватит врать, все у тебя нормально с коленом», ‒ мама вскидывает глаза над газетой.
Слушайте, а давайте с вами сыграем в козла, да? Вы же умеете в козла? Или в переводного дурака, только чур при переводе козырем карту класть, без «проездных». И не жульничать. И карте место. И без обид.
Спешит, чуть сердится. Слушайте, вы, пожалуйста, говорите мне не «трефа», а «креста», а то я путаюсь («креста-креста-козырь креста»).
«Алёша, оставь человека в покое», ‒ мама роется в косметичке, падает пинцет.
Алёша быстр и юрок. Заточение в вагоне лищь едва удерживает его, оттого руки и ноги стрекочут и перебирают. Скоро приедем.
На подъезде. Не удержалась, ворошу соломенные волосы, выгорел за лето. Растерянно хлопает ресницами, выбегает из купе.
Казанский. Сумки на смятых ковриках. До свидания, Алёша. Молчит. Худые ноги свисают под столом. «Не потеряйте мою ракушку».
Обернуться не успеваю, сметённая уважаемыми пассажирами.
ну, полез, вот и получил Алёша, смотрите ‒ почти ничего не осталось, только колено не сгибается.
«Алёша, хватит врать, все у тебя нормально с коленом», ‒ мама вскидывает глаза над газетой.
Слушайте, а давайте с вами сыграем в козла, да? Вы же умеете в козла? Или в переводного дурака, только чур при переводе козырем карту класть, без «проездных». И не жульничать. И карте место. И без обид.
Спешит, чуть сердится. Слушайте, вы, пожалуйста, говорите мне не «трефа», а «креста», а то я путаюсь («креста-креста-козырь креста»).
«Алёша, оставь человека в покое», ‒ мама роется в косметичке, падает пинцет.
Алёша быстр и юрок. Заточение в вагоне лищь едва удерживает его, оттого руки и ноги стрекочут и перебирают. Скоро приедем.
На подъезде. Не удержалась, ворошу соломенные волосы, выгорел за лето. Растерянно хлопает ресницами, выбегает из купе.
Казанский. Сумки на смятых ковриках. До свидания, Алёша. Молчит. Худые ноги свисают под столом. «Не потеряйте мою ракушку».
Обернуться не успеваю, сметённая уважаемыми пассажирами.
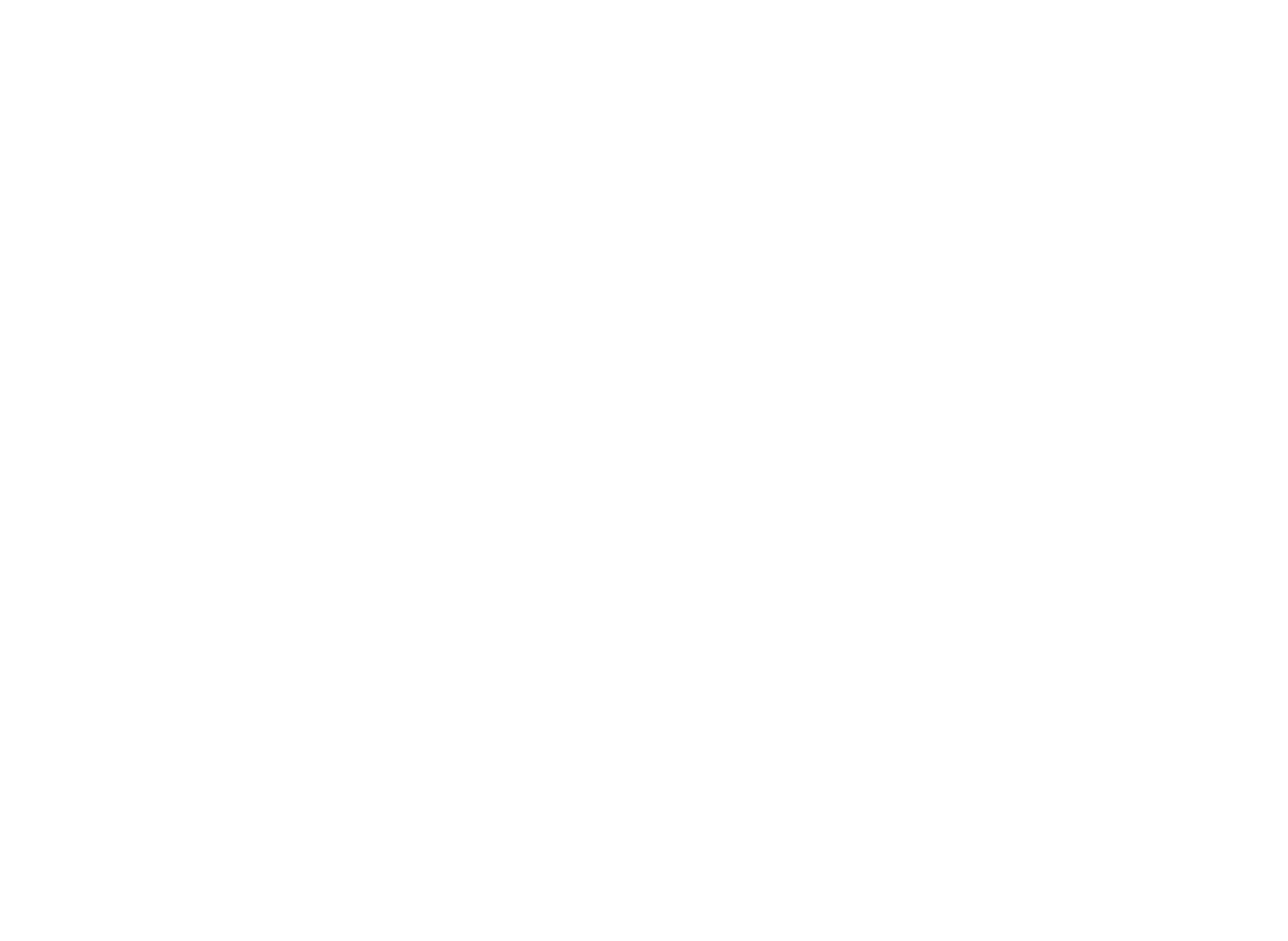
тихий мальчик
Ехала с тихим мальчиком. Водянистая мама с тремя подбородками, редкими волосами и волнующимися ягодицами, под очками не движутся серые глаза, обручальное кольцо на левой, булка городская и сосиски. Мальчик русый, ранец, ресницы, чуть печален, аккуратные ботинки, эмблема школы. После уроков.
Мама (с отдышкой): Галина Анатольевна очень хвалит тебя. Говорит, стал работать на уроках.
Мальчик (рассеяно смотрит в окно): Работать?
Мама: Руку тянуть… Особенно ей понравилось, как ты прочёл стихотворение Пушкина про няню.
Мальчик: Про кружку?
Мама: Я ей говорю, мы там были — в домике Пушкина, там еще есть у нас фотографии. Ты и Пушкин.
Мальчик (проводит пальцем по пыльному стеклу): Кто?
Мама: Ты и Пушкин.
Мальчик (тихо): Я и Пушкин.
Мама (кладёт ладони на полные колени): Что-то у меня голова кружится.
Мама медленно выкарабкивается, покряхтывая, цепляясь рыхлыми пальцами за чёрную резину. Согнувшись и оттопырив тощий зад, терпеливо подавал сосиски, потом послушно плёлся сзади, хотел хуйнуть ногой по пустой банке, но передумал. Дошли до шлагбаума — ловко прошмыгнул под ним, свесившись покачался, касаясь волосами асфальта. Мама, не оборачиваясь, переставляла ноги. Неспеша свернули на улицу Клубничную.
[спустя время они лежат в одной постели; ей трудно дышать, он прижался; настойки, таблетки, на бумажке наспех написаны телефоны и названия препаратов; у неё влажное лицо и мокрая ночная рубашка; и этот запах жирного гниющего тела, к которому невозможно привыкнуть, как тусклое прогорклое сало, особый запах пота, с привкусом тухлого, и унылое ожидание, бесконечно утраченное, переведённое в срань, в необходимость переваривать свой мозговой изо дня в день жир, никогда дождь на листьях какой-то там катальпы, или самшита, или хоть клёна медь накаплет, пусть даже перегной подмосковного леса, а только эти бесконечные сосиски пальцев, перебирающие фотографии из домика Пушкина]
Мама (с отдышкой): Галина Анатольевна очень хвалит тебя. Говорит, стал работать на уроках.
Мальчик (рассеяно смотрит в окно): Работать?
Мама: Руку тянуть… Особенно ей понравилось, как ты прочёл стихотворение Пушкина про няню.
Мальчик: Про кружку?
Мама: Я ей говорю, мы там были — в домике Пушкина, там еще есть у нас фотографии. Ты и Пушкин.
Мальчик (проводит пальцем по пыльному стеклу): Кто?
Мама: Ты и Пушкин.
Мальчик (тихо): Я и Пушкин.
Мама (кладёт ладони на полные колени): Что-то у меня голова кружится.
Мама медленно выкарабкивается, покряхтывая, цепляясь рыхлыми пальцами за чёрную резину. Согнувшись и оттопырив тощий зад, терпеливо подавал сосиски, потом послушно плёлся сзади, хотел хуйнуть ногой по пустой банке, но передумал. Дошли до шлагбаума — ловко прошмыгнул под ним, свесившись покачался, касаясь волосами асфальта. Мама, не оборачиваясь, переставляла ноги. Неспеша свернули на улицу Клубничную.
[спустя время они лежат в одной постели; ей трудно дышать, он прижался; настойки, таблетки, на бумажке наспех написаны телефоны и названия препаратов; у неё влажное лицо и мокрая ночная рубашка; и этот запах жирного гниющего тела, к которому невозможно привыкнуть, как тусклое прогорклое сало, особый запах пота, с привкусом тухлого, и унылое ожидание, бесконечно утраченное, переведённое в срань, в необходимость переваривать свой мозговой изо дня в день жир, никогда дождь на листьях какой-то там катальпы, или самшита, или хоть клёна медь накаплет, пусть даже перегной подмосковного леса, а только эти бесконечные сосиски пальцев, перебирающие фотографии из домика Пушкина]
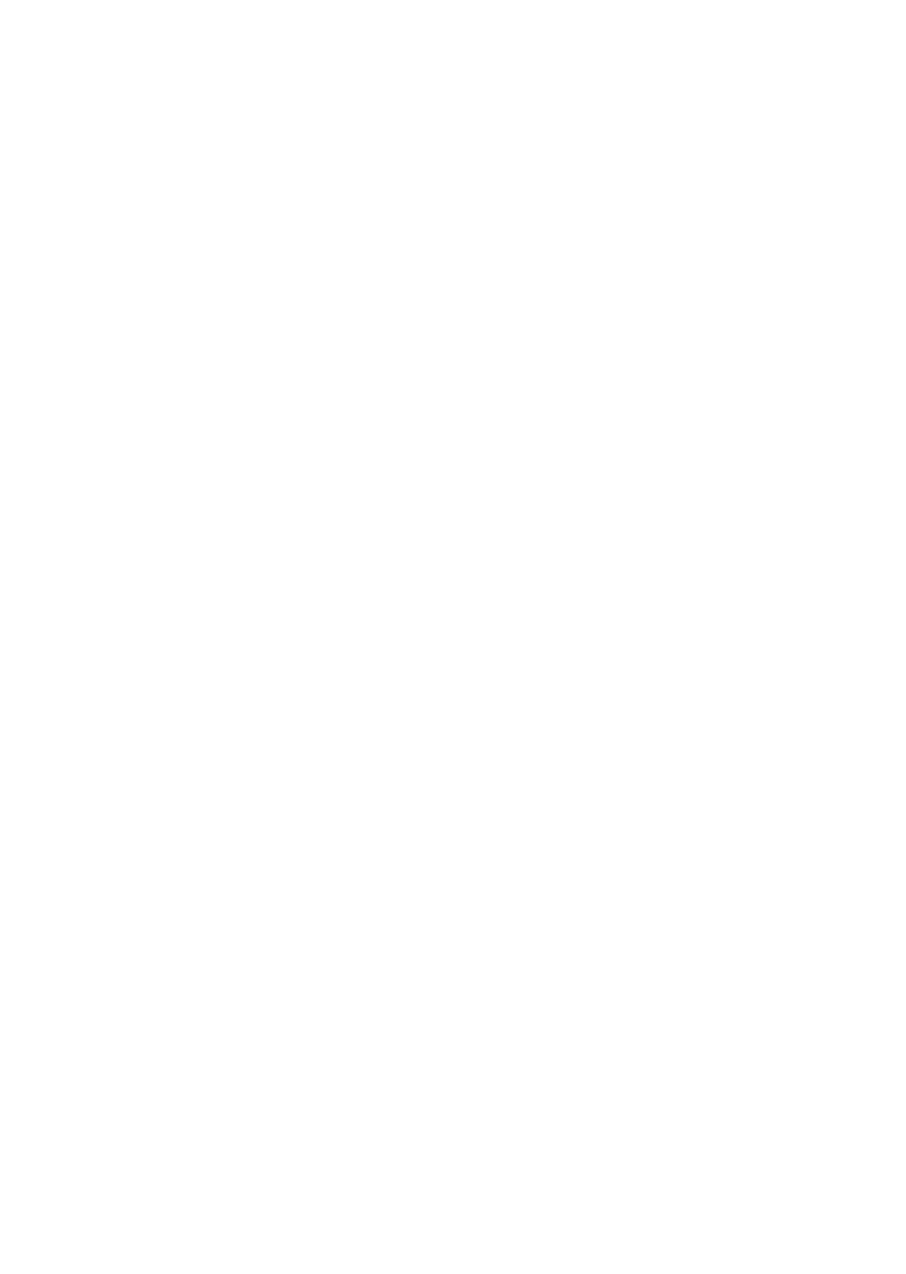
спать пора
Ф. и С. ‒ это такие специальные дети, которых проще убить, чем усыпить. Закладка в сон начинается со смертельной битвы всех народцев.
Ф. вооружен нунчаками, сюрикенами и рейнджерскими наручниками. Трепетная китайская пластмасса, созданная для медитаций у сливовой ветви над прудом, не предполагает, что русский ребёнок расплавит её температурой тела. Оружие фёдоровой свободы разламывается через секунду после гонга.
В результате у «Пингвинёнка-Зомби» на руках не три крупных, а с десяток мелких и колких предметов. Плюс чайные ложки из-под дивана, пульты, магнитные шарики и просто кулаки. Насовать сестре прицельно по бокам (выше не достаёт) ‒ дело чести.
Ф. скалится и рычит, крутится волчком на полусогнутых, танцует «Яблочко». Вынимает вдруг из трусов пару заряженных кольтов, а из носков кинжал! Успевая на лету врубить робота Walle, чей хриплый баритон подсыпает вестернского перцу.
В бою выдерживает только викинговский щит, щедро украшенный змеями Одина (из секретной пластмассы викингов Хубэя).
Слабость Ф. ‒ его рост. Поэтому тактика быстрого боя такова: подсечь С., свалить, запрыгнуть сверху и требовать незамедлительной капитуляции.
С. приём с подсечкой давно известен как «Ф.-сраная-жопа», поэтому её контрзащита ‒ в прыти, не дать «проклятой обезьяне» себя сбить. Принимает бой она редко, с отчаянным безразличием. В ближнем бою С. дерется по-девчачьи, вращая лопастями нежных тонких рук, приученных к медленной кисти «белка №5» или мягкому карандашу (сангина, уголь, акварельные карандаши).
Процесс братоубийства ей в целом малоинтересен. На её стороне рост и мать. Но звериный гуимпленовский оскал Ф. не оставляет и её равнодушной.
С. предпочитает ковровые бомбардировки подушками. На стороне конармия розовых пегасов, «единорогов-девочек» и пару десятков фей-инвалидов в ранге сержантов и ефрейторов. Военный либерализм и слюнтяйский компромисс налицо.
После того как все вспрели, начинаются танцы на костях у сказки.
Лёка и Минька 2.0
.
Смотрю, в детсадах начались утренники -- ранним утром, в сумраке (задолго до Эос с перстами пурпурными) целеустремлённые девушки волокут розовые крылья из тюля. Следом плетётся принцесса-богиня, утопая в снежном омлете. На голове корона, сопли по щекам, варежка намокла.
(Вы спросите, что я делаю на этом перекрёстке в час, когда аристократы духа греют перины. Выгуливаю шлёндру, неугомонную суку моих черничных ночей Дусю.)
Так вот, эти новогодние утренники напомнили мне один эпизод. Итак, купили билеты «на ёлку». Билеты с подарком. Софье и Фёдору примерно пять и три. После созерцания беготни и визгов (обезьяна Чичичи помогает Деду Морозу вернуть красную звезду) направились к точке выдачи подарков. Дети горделиво держат купоны, переминаются, наконец наша очередь.
Софья (по праву старшинства, которое она в себе лелеет) получает подарок (нечто в жестянке). Ответственная, собранная, умиротворённая, как председатель совета отряда пионеров.
Фебзер (запрел в комбинезоне, взволнован, едва достаёт до столешницы) протягивает свой купон подарочной тётке (румяная буфетчица из Серпухова).
Та долго шарит по дну коробки. Пусто. Нет подарков. Трясёт коробку, стучит по ней. Пусто. [Где-то на складе есть, но де-факто, прямо сейчас -- нет.]
Федя (сдавленно, шёпотом, совершенно обескуражен): А как же.... я?
Соня (смачно, с расстановкой): Тебе не положено, Федя. Плохо вёл себя в этом году.
